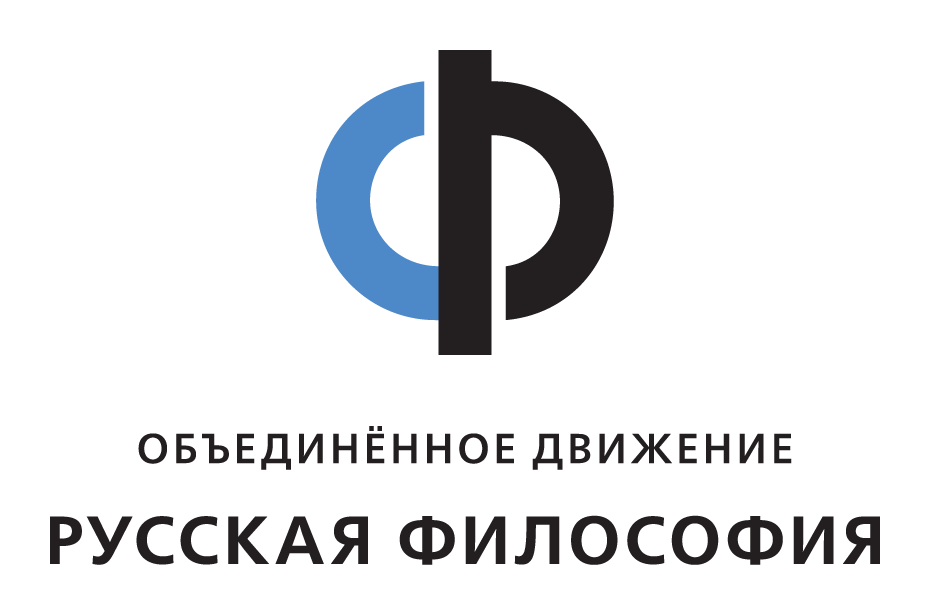При всей положительности курса на "традиционные ценности", провозглашаемого сегодня, необходимо признать, что это понятие будет оставаться пустым до тех пор, пока мы не проясним, о какой традиции идет речь.
Современные проекты русской идеи многолики, однако преимущественно они предполагают не реставрацию некоего наличного содержания, а реконструкцию идеологического. Этот жест понятен – реставрация возможна, когда осталось хоть что-то. Реконструкция, напротив, создает нечто новое вместо утраченного. В контексте современной России именно второе кажется наиболее популярным выходом: современность никого не устраивает, поэтому приходится обращаться к утраченным элементами истории и культуры, проводить недобросовестные реконструкции Святой Руси, чуть менее святой Империи или непоколебимого Союза, хотя ни одного из этих идеалов не существует, не потому даже, что они погибли, а потому что вовсе никогда не существовали. Однако хуже всего, что ни один идеальный конструкт прошлого, наследницей которого могла бы быть современная Россия, не является для нее традиционным, это преимущественно новодел. Любые ревизии исторического процесса с целью оправдать, возвысить или, наоборот, ниспровергнуть кумиров прошлого – не более чем чисто художественные спекуляции, создающие нарративы на основании реальной истории, нарративы, впадающие или в грех самовосхваления (чреватый нацизмом), или в идеологию – словом, в любые догматические крайности, которые разделяют только те, кто в них верит. Кроме того, не стоит забывать, что именно такого рода художественным творчеством занимаются в ближнем зарубежье. Лишенные традиции, чуждые или хотя бы неизвестные народу эти конструкты – неонтологичны.
Напротив, постановка вопроса об онтологии русской идеи заставляет спрашивать не о чаяниях, конвенциях и регулятивах, но о том, что наличествует в действительности, о том, что не утрачивалось при государственных и культурных революциях (удивительно частых даже за последнюю сотню лет), о том, что вполне известно каждому русскому человеку – не подсознательно, латентно или метафизически, а в наличном плане, в факте осознанного существования. В противном случае, если эта идея неизвестна никому, кроме ее конкретного выразителя, совершенно неясно, что же сделает ее русской.
В связи с этим, как нам представляется, единственная положительная константа русской культуры, обладающая недогматическим, а просто фактическим онтологическим статусом, константа, пережившая все пертурбации русской истории, причем не загнанная в подполье, как русское православие, и не высмеянная, как вера в монархию или Святую Русь, выжившая не просто на виду, а как естественная и необходимая часть человеческого и гражданского воспитания – это "русское слово", каким оно воплотилось в русской классической литературе.
В рамках философского дискурса подобное решение может показаться легковесным. Однако не секрет, что в традициях, пожалуй, только русского философствования – чрезвычайное внимание к поэзии и литературе. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой влияют на философию чрезвычайно, философия на них – в гораздо меньшей степени. Объясняется это тем, что первая предшествует последней: словами В. В. Зеньковского, "мощь собственного гения России впервые проявилась в сфере литературы" [3, с. 13], русская философия рождается из русской литературы и потому, утратив философию, какой она только стала вызревать к 1922 году, Россия не лишилась ничего онтологически существенного. Утрать она литературную традицию, мы бы не смогли провести иной линии преемственности Империи и Союза, кроме пространственной. Это не значит, кроме того, что философское познание обесценивается. Это значит, что филология в нашем случае должна быть предварительной ступенью и ключом к философии. В этом смысле справедливо замечание Вернера Хамахера: "Филология остается движением, которое предшествует языку знания и пробуждает само желание такого языка, и она не дает притязанию того, что желает быть познано, уснуть в познании" [7, с. 35]. Кроме того, только русское слово содержит ту положительную полноту, которой еще со школьной парты причастны все люди, говорящие по-русски. Что важно: не только сейчас и не только в России, но везде, где звучит русская речь на протяжении последних двухсот лет. Ничто другое в русской культуре не обладает ни такой живучестью, ни охватом. Тем самым традиция русской словесности легитимирует и обладает потенциалом реставрации и русской философской традиции, и даже русской религиозности.
Как идентичность русская словесность складывается в начале XIX века, она узнает себя в апокалиптическом сюжете столкновения с Наполеоном-Денницей и его борьбы с Михаилом Архангелом – Михаилом Кутузовым (эти аллегорические эмблемы характерны для поэзии, например, Державина, Горчакова, Жуковского) [1, с. 90–91]. Характерно, что в последующей традиции изящной словесности образ Наполеона так и останется ключевым маркером антагониста или некоего негативного содержания в характере протагониста. Почти все великие романы, составляющие русский литературный канон, каким его знает всякий говорящий по-русски: "Евгений Онегин", "Мертвые души", "Война и мир", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", – складываются в качестве идейного сопротивления наполеонизму как типу, который выдающийся отечественный филолог Валентин Семенович Непомнящий определил как homo usurpator, человек потребляющий [6, с. 117]. В основе слова "узурпатор" латинский корень usus – "пользование"; этим словом обозначается использование и потребление чего-либо без права этого употребления, нелегитимное присвоение. О нравственных качествах homo usurpator свидетельствуют Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский: "мы все глядим в наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно"; "справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение – вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название не очень чистых"; "в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это...". В конце концов и разрешение себе самого ненужного и одновременно совершение одного из самых страшных преступлений в русской литературе – также лежит на совести Раскольникова-Наполеона. Словом, русская традиция пронизана глубоко антинаполеоновским пафосом, и более того: данный концепт может быть рассмотрен в качестве русской антиидеи. Однако в чем конкретно заключается негативное содержание этого концепта?
Морфологические черты, позволяющие признать тип homo usurpator – это не столько даже конкретные злодеяния или пороки, сколько куда более существенное измельчание человеческого существа, мелкое мещанство, оправдываемое высокими побуждениями или даже возведенное в ранг духовных ценностей ("но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели"), а главное – безусловный примат собственного, личного, индивидуального над всем. Homo usurpator – это не просто "человек эпохи потребления", но глубже – иллюзия индивидуального господства, неколебимая вера в собственную субъектность. Последняя является не просто принципом самости, но, согласно одной из аксиом европейского мышления, онтологическим основанием самого космического порядка, поскольку каков субъект, таково и время, которое субъект всегда конституирует. Тем самым, homo usurpator – это постановка себя в центр универсума, это подчинение себе истории, осознанное нарушение традиции, поскольку центр мира не может этот мир наследовать – иначе бы это означало, что было время, когда он не был центром. Нет, homo usurpator мыслит себя в единственном числе, превращаясь, словами Набокова, в пошляка космического масштаба, вселенского пошляка. Вопреки естественной логике отношений между поколениями, homo usurpator осуществляет жест добровольного или даже скорее принципиального сиротства – подобно типическому отцеубийству Смердякова. Лакей, прислуживающий, но не служащий, убивает господина и отца не из ненависти к нему, а из чрезмерного внимания к собственной важности. Эта же болезнь и этот же жест является обоснованием всякого сноса памятников и ревизии исторического прошлого в пользу более приятного, конъюнктурного, поскольку по существу сама этика узурпации – это герметизация наличного сознания или поколения и демонстративное прерывание естественной семейной или поколенческой преемственности.
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Поколения входят не в отношения передачи, то есть традиции, но в отношения антагонизма (подробнее об этом в статье "Русская литература в поисках утраченного отца"). Такова герметическая историософия человека потребляющего, позиция русской антиидеи, примеры которой мы, к сожалению, находим в собственном прошлом и, что еще хуже, наблюдаем и сегодня.
Русская же идея, русская традиция, какой она единственно выражается в русском слове – это, прежде всего, примат добровольной преемственности, это позиция усыновления, братания, это архетип службы. В противовес homo usurpator традиция русского слова выдвигает иной образ, образ, который можно было бы куда менее красноречиво определить как homo minister. Слово minister только в современном русском языке ассоциируется с чем-то не слишком достойным. В действительности оно происходит от слова minus, обозначая служение тому, что (или кто) выше служащего. В этом смысле неудивительно, что первый импульс русской литературы – импульс дворянский, для которого характерна эмблема Чацкого "служить бы рад, прислуживаться тошно", ведь прислуживаются – себе, а служат – господину. Это различение службы и прислуживания тождественно средневековому различению службы и труда [5, с. 239] и, глубже, латинскому – классиков и пролетариев, то есть тех, кто жертвует государству, и тех, кто содержит только свою семью. Труд унизителен не потому, что грязен или недостоин – без "сервов" "не мог и мир существовать", но потому, что он предполагает конечное движение, "презренную пользу". Равно и забота о семье сама по себе похвальна, но она менее достойна, если игнорирует благо государства, то есть семьи семей. Служба же – удел священников, монахов и идеал жизни рыцарей – это отречение от себя, элиминирование собственного содержания, принципиальное отрицание возможности присвоения полноты смысла единичному индивидуальному высказыванию, игнорирующему общность и преемственность. Служба направлена за пределы конечного и оказывается возможной только благодаря опыту величия – Бога, господина, страны, нравственности, общности всех, – того, что не может в полной мере наличествовать, но всегда должно еще наступить. Так, Татьяна "выговаривает" Онегину за то, что он, будучи человеком "с сердцем и умом" стал "чувства мелкого рабом"; так Гоголь планирует "воскресить" Чичикова от мертвечины приобретательства; так подводит к возможности преображения Раскольникова Достоевский; так необходимость нравственного величия обжигает Толстого. Примеры эти можно продолжать, но сама тенденция налицо – русская литература подводит читателя к необходимости чего-то большего, чего-то, что еще не существует в наличном бытии или глубоко скрыто в нем – к необходимости соответствовать Образу Божьему или хотя бы Идеалу. Именно эта интуиция приведет Николая Федорова к одному из характернейших выражений так понятой русской идеи – философии общего дела воскрешения отцов. Этот жест рождения собственного отца, служения собственному отцу вплоть до преодоления времени – напрямую сформирован духом русской литературной традиции, закрывшей брешь отсутствия народного эпоса и мифологии, которые были бы известны собственно народу. Причастность указанным текстам и формирует взгляды и ценности еще до их артикуляции, и так именно в литературе мы обнаруживаем то, что является подлинным русским мифом и русским эпосом [2].
В свою очередь, обнаружение архетипа homo minister ведет нас к проблеме логического обоснования его возможности. Если есть служащий возвышенному, которое есть как таковое, но не проявлено еще в наличном бытии, то для этого необходимо реальное существование Истины, Добра и Красоты как таковых, общих для всех, ведь в противном случае всякий minister окажется просто usurpator, поскольку и Истина, и Добро, и Красота будут пониматься не так, как они есть, а совершенно произвольно. Тем самым критерием незамутненного служения должно быть полное отсутствие на/личной выгоды, также постоянно критикуемое в русской традиции. Любое приобретение, корысть, личный интерес всякий раз трактуется в русской литературе как нечто мертвое; Онегин, Печорин, Чичиков, Раскольников, Иван Карамазов – этот список можно продолжать, пока не закончатся произведения школьной хрестоматии, важной потому, что именно этому пантеону приобщаются все говорящие по-русски вне зависимости от национальности, веры и политических взглядов, – словом, все они внутренне умирают, когда стремятся к удовлетворению только собственного желания. И, напротив, Татьяна, Ленский, Каратаев, Соня Мармеладова, Алеша Карамазов – суть те, кто умеют забыть себя ради другого. Если угодно, формулой обоснования служения homo minister может быть зачин известной военной песни – "не для меня", то есть бескорыстное забвение о себе. Из последнего вытекает и одна из важнейших характеристик русского духа вообще – "милость падшим", то есть полное нежелание осуждать на смерть преступника или признавать духовную смерть негодяя. Характерный пример, как всегда, дает Пушкин – "солнечный центр нашей истории" [4, с. 353]: убийца Алеко изгоняется из табора не потому, что он убийца, а потому, что он "гордый человек". Преступление – убийство – невозможно исправить, оно существует юридически. Порок же – гордость – является тем, что подлежит исправлению в конкретном человеке в той мере, в какой человек этот будет готов забыть себя ради чего-то большего.
Тем самым то онтологическое, наличное содержание русской идеи, которое дано, присутствует и реально известно всякому говорящему по-русски человеку – это идея бескорыстного служения, самоуничижения ради наилучшего и милости к павшим, понятой максимально широко, вплоть до милосердия к падшему духу. Залогом этого служения Ф. М. Достоевский назвал очень простую, в сущности, вещь – память друг о друге и о прошлом добре: "Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома". Тем самым наше сегодняшнее положение в истории будет тем более русским, чем бескорыстнее и радостнее мы примем все то доброе, что вообще было в нашем историческом прошлом – вне зависимости от политических и религиозных воззрений, – просто постольку, поскольку у нас нет другой истории. Нравственными и концептуальными же ключами к осмыслению этой истории должна быть русская литературная традиция, традиция русского слова – единственная подлинно онтологическая традиция русского сознания, заменившая нам мифологию и эпос и, так, copula русской истории.
Список литературы:
- Гаспаров, Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. – СПб.: Академический проект, 1999. – 400 с.
- Гриффитс, Ф. Т. Третий Рим. Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака) / Ф. Т. Гриффитс, С. Д. Рабинович. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. – 336 с.
- Зеньковский, В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. – Ленинград: Эго, 1991. – 221 с.
- Ильин, И.И. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в русской философской критике. – М.: Книга, 1990. – С. 328–355.
- Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс – Прогресс-Академия, 1992. – 376 с.
- Непомнящий, В.С. Пушкин. Русская картина мира. – М.: Книжный клуб, Книговек, 2019. – 688 с.
- Хамахер, В. Minima philologica: 95 тезисов о филологии; За филологию. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. – 216 с.